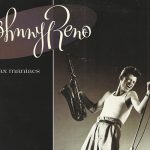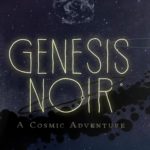Молнии уже полыхали на западе. Гитлеровская Германия, пожирая беспомощную Европу, крепчала, что твой боров на дармовой свёкле. Василий Иванович Лебедев-Кумач, человек тонкой душевной настройки, чувствовал приближение бури давно, только слова не складывались в единую композицию до 22-го июня 1941-го. На следующий день стихи были готовы и отданы в печать газет “Известия” и “Красная звезда”, где опубликовались под портретом Верховного главнокомандующего 24-го июня. Александр Васильевич Александров, прочтя стих, немедленно написал музыку. Так же быстро пришлось осваивать партитуры музыкантам, ноты, начёрканные второпях на графитовой доске, весь оркестр переписывал в свои тетради с тем, чтобы уже 26-го июня 1941-го года на Белорусском вокзале бойцы, отправлявшиеся на фронт, впервые услышали “Священную войну”. Сложно передать словами то воодушевление, с которым солдаты приняли песню, ансамбль исполнял её раз за разом, мелодия уходила на фронт с эшелонами бойцов, грозная поступь ритма и тревожный нерв напева обессмертили “Священную войну” в первый же день, позднее её стали передавать по центральному радио после боя курантов в шесть часов утра, тогда-то её узнала вся великая Родина. Ничего более эпического, мощного, проникновенного цивилизация не создавала ни до, ни после. Предваряя её, великий Левитан произнёс своим великим баритоном великую фразу: “наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами”. Но победа была ещё далеко…
Немецко-фашистский хряк с примкнувшим к нему финским косорылом уже окружали Ленинград. Василий Павлович Соловьёв-Седой до последнего момента игнорировал приказ об эвакуации, работая в порту, растаскивая брёвна, которые могли послужить началом большого пожара. Вечером, закончив работу, он с товарищами услышали баян и тихое пение с ближайшего корабля. Люди присели на брёвна, зачарованные моментом. Всё кругом стало тихим-тихим, даже волны перестали шептаться, только гармонь и голоса доносились с корвета. “Споёмте, друзья, ведь завтра в поход уйдём в предрассветный туман”. Для сочинения слов Соловьёв-Седой позвал приятеля Александра Чуркина. Текст вышел непритязательным и вполне моряцким. А сама песня будто качалась на балтийских волнах. Коллеги по цеху принялись хаять очевидный шедевр, но солдатам и матросам песня понравилась настолько, что до виниловой печати разошлась по мехам фронтовых гармоней.
Война – холодный, голодный и грязный ад. В полевых госпиталях врачи, чтоб перебить чувство голода, хватали глоток спирта и выкуривали папиросу. У пехоты спирта не было. В глубоком детстве я обнаружил коробку с солдатской махоркой. Нюхнул и аж на слезу прошибло. Дедушка посмеялся. Он не курил вообще, но на фронте приходилось. Его ад был холодным, голодным и грязным. “Давай закурим, товарищ, по одной”. Илья Френкель побывал военным репортёром в окопах, хлебнул “боевых”, и точно узнал цену солдатской махорки. Клавдия Шульженко разнесла табачную романтику по полка́м. “Давай закурим, товарищ мой”. Модест Ефимович Табачников написал невыносимо прекрасный пасадобль.
Никита Владимирович Богословский вспоминал:
«Как-то поздно вечером пришёл ко мне режиссёр картины Леонид Луков и сказал: «Понимаешь, никак у меня не получается сцена в землянке без песни». И так поразительно поставил, точно, по-актёрски, сыграл эту несуществующую ещё песню, что произошло чудо. Я сел к роялю и сыграл без единой остановки всю мелодию «Тёмной ночи». Это со мной было первый (и, очевидно, последний) раз в жизни…».
Фильм “Два бойца” не состоялся бы без важной веховой песни “Тёмная ночь”, которую Марк Бернес прожил. Первый оттиск винила случился бракованным, поскольку на матрицу попали слёзы девушки-оператора.
Евгений Долматовский прошёл все окопы этой страшной войны, но именно он заметил закономерность названия улиц, когда каждая западная указывала на следующий город, который будет занят Красной армией. Леонид Утёсов добавлял по куплету с каждым новым освобождённым городом. “А название такое, право слово, боевое”.
Михаил Ясень был в Вене, когда на расстроенном клавикорде русский солдат сыграл Штрауса, тому подыграли местные, вытащив скрипки и виолончели. Ясень пронёс эту память сквозь жизнь, его родная Белоруссия была изувечена расчеловечившимся вермахтом. “Иди и смотри”. “Майский вальс” на музыку Михаила Лученка впервые в 1985-м году исполнил Ярослав Евдокимов. Не только Ясень, но и большинство фронтовиков ещë были живы и в строю. И думали не о мести, а о родных домах, где ждут те, за кого следует воевать.
Этот странный русский народ всегда мобилизуется и представляет страшную, сокрушительную силу для внешнего врага. Если хотите культурный код и скрепы – даже забывший подвиги Ушакова с Нахимовым знает свершения Конева и Жукова. И песни эти стали частью, цементом того кулака, который размозжил башку нацистской гадины. Как известно, и без башки гадина орудует сфинктером. А значит, нам снова придётся водружать флаг над Рейхстагом, но и, чего пуще, над Пентагоном. А там, глядишь, и Калифорния вернётся к России, а Техас присоединится.